
К 1941 году Борис Лавренёв являлся состоявшимся писателем, живым классиком советской литературы: его знаменитые повести «Ветер», «Сорок первый», «Седьмой спутник» выходили многотысячными тиражами и экранизировались классиками кино. Но когда 22 июня немецкая армия вторгается в СССР, он, отбросив регалии заслуженного деятеля культуры, отправляется военным корреспондентом на фронт.
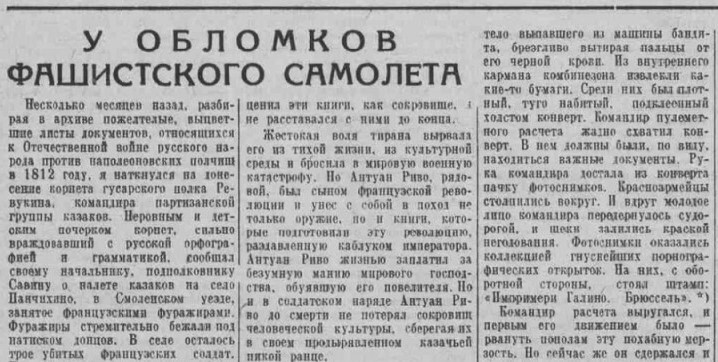
Уже 5 июля 1941-го в газете «Ленинградская правда» появляется статья Лавренёва под заголовком «У обломков фашистского самолёта». Название обещает очерк о героической обороне советских бойцов против превосходящих сил врага, но статья, помимо этого, оказывается ярким портретом типичного солдата фашистской Германии:
«На жирно-зелёной пышной траве, у обломков истребителя валялся труп фашистского лётчика. В голубоватом лётном комбинезоне воздушный пират лежал плоский и раздавленный, как серая жаба, пришибленная камнем.
<…>
Наши пулемётчики обыскивали тело выпавшего из машины бандита, брезгливо вытирая пальцы от его чёрной крови. Из внутреннего кармана комбинезона извлекли какие-то бумаги. Среди них был плотный, туго набитый, подклеенный холстом конверт. Командир пулемётного расчета жадно схватил конверт. В нём должны были, по виду, находиться важные документы. Рука командира достала из конверта пачку фотоснимков. Красноармейцы столпились вокруг. И вдруг молодое лицо командира передёрнулось судорогой и щёки залились краской негодования. Фотоснимки оказались коллекцией гнуснейших порнографических открыток. На них, с оборотной стороны, стоял штамп: «Импримери Галино. Брюссель».
Командир расчёта выругался, и первым его движением было – рвануть пополам эту похабную мерзость. Но сейчас же он сдержался и аккуратно вложил пакостные открытки в конверт:
"В штаб сдадим, – хмуро сказал он, – пусть люди узнают, кто с нами воюет"».
Так уже в самом начале Великой Отечественной Борис Лавренёв формулирует иное, пока ещё скрытое измерение развернувшихся сражений: война для советского солдата будет идти не только за собственную землю, но и против варварства и дикости, взывающих к самым низменным человеческим инстинктам. Против того, чем и является фашизм по своей природе.
Но главным полем деятельности для Лавренёва становится флот: в конце 1942-го он получает назначение в газету «Красный флот» и прибывает в Заполярье, в Краснознамённый дивизион истребителей подводных лодок. Вскоре в «Красном флоте» появились его первые статьи.

Общаясь с охотниками на подлодки, участвуя в операциях по выслеживанию и уничтожению плавсредств врага, Лавренёв бережно и точно переносит в репортажи героические будни советских моряков. Его – южанина, уроженца Херсона – приводит в восхищение суровое, непоколебимое мужество людей, способных сражаться одновременно и с немцем, и с жуткими, бесчеловечными условиями Севера, не прощающего ошибок и слабостей.

Отдельные истории боевых будней становятся материалом не только репортажей, но и художественных произведений. Так, однажды Лавренёв услышал от советских катерников потрясшую его историю.
Одному старшине после ранения запретили возвращение на флот. Он не отчаялся и добился перевода на передовую, где попал в лыжные войска.

Вскоре старшина получил задание – вместе с пятнадцатью лыжниками провести рейд в тыл врага. Незамеченными они перешли линию фронта, обнаружили землянку, усыпанную снегом, где окопались немцы, молниеносно заняли её.
И тут, после короткого боя, внутри землянки их охватил ужас.
Землянка была сложена из замёрзших трупов советских воинов.
Бойцы, естественно, приступили к похоронам останков своих братьев по оружию и на руке одного из мёртвых увидели необычные часы. Доложили старшине – и тот узнал их: это были часы его брата, с которым ему так и не довелось встретиться на фронте…
Услышанную историю Борис Лавренёв положил в основу рассказа «Брательник», напечатанного в августе 1943-го в журнале «Краснофлотец».

Общение с моряками, их жертвенная служба родине и бесстрашие в борьбе с врагом, а также чувство ответственности писателя перед выстоявшим и победившим народом, на языке которого он пишет, – всё это внутренне переживалось Борисом Лавренёвым как задача, поставленная самой жизнью. Задача создать произведение, увековечившее героических людей, которых писатель повстречал на флоте. И Лавренёв решается на создание пьесы.
Пьеса в те времена – явление знаковое. Если она принимается ведущим московским театром, дальше пойдёт по подмосткам всей Советской страны, от Прибалтики до Владивостока, и увидят её десятки и сотни тысяч людей, а миллионы – услышат в радиопостановках, современных аналогах сериалов. Понимая масштаб и всю ответственность задачи, Лавренёв работает на пределе человеческих и творческих сил (понятно, от других задач его никто не освобождает) – и заканчивает пьесу уже в июле 1945-го.

Пьеса получит название «За тех, кто в море», и слова эти станут нарицательными и известными каждому русскому человеку.
Вскоре после выхода пьеса была удостоена Сталинской премии, а уже в 1947 году экранизирована.
До конца жизни Борис Лавренёв будет получать письма благодарности от моряков самого разного чина. От одних – за изображение духа и облика русского моряка. От других – людей младшего поколения – за то, что повлиял на выбор жизненного пути, связав их судьбу с морем.
А сам писатель до конца дней будет вспоминать работу с моряками Северного флота как самые насыщенные и удивительные дни в своей жизни.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.